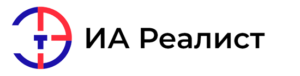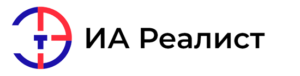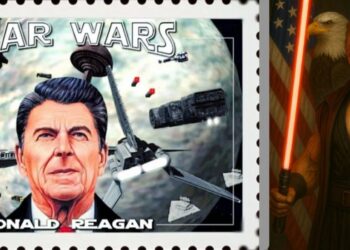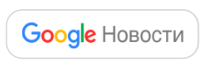Современная ситуация в Сирии приковывает внимание исследователей. Перспективы урегулирования затяжного конфликта в стране предельно туманны. В этой связи отечественные и зарубежные авторы обращаются к основным участникам конфликта, пытаются определить пределы их возможностей и вероятное поле для компромисса. Зарубежные исследователи, в том числе Р. Торнтон и К. Кашанах, обращают внимание на то, что многие локальные игроки являются проводниками интересов соседних государств и великих держав. Нередко такой тезис выдвигается и в отношении сирийских курдов и провозглашённых ими автономных единиц в составе Сирии. Ряд авторов попытались показать, насколько курды руководствуются собственными интересами. Вовлеченность внешних игроков в курдский вопрос в Сирии велика, однако рассмотрение курдов (вернее, курдских политических организаций) в качестве актора позволяет дополнить наши представления о сложности ближневосточной политики. В этом отношении большое значение имеют работы отечественных специалистов К.В. Вертяева и С.М. Иванова.
Цель настоящей статьи заключается в том, чтобы представить сбалансированный анализ, который, с одной стороны, рассматривает сирийских курдов как отдельный фактор урегулирования конфликта, но, с другой стороны, учитывает особенности исторического развития курдов в Сирии и вытекающие из этого противоречия и сложности. Вероятно, прогресс в сфере самоопределения курдов в Сирии (хотя бы в формате автономии) напрямую связан со степенью их внутренней консолидации и с умением балансировать между различными внешними игроками (Иракский Курдистан, Турция, Израиль, США, Россия). Для этого были применены такие методологические инструменты как агрегирование, факторный подход и историко-описательный метод.
Курды являются крупнейшим этническим меньшинством в Сирии, составляют 10-15% населения страны (численность, по разным оценкам от 1,5 до 2,5 млн чел.). Существуют два крупных анклава на севере и северо-востоке страны, один с центрами в Кобани, Джераблусе и Африне, другой – в значительной степени совпадает с мухафазой Аль-Хасеке (столица – одноименный город). Многие курды проживали на этих территориях с III-II тысячелетия до н.э. – с их предками связывают государство Митанни. Одновременно с миграцией арабов в период раннего халифата часть курдов с северных и западных земель осела на территории современной Сирии. То есть курды могут считаться коренным народом согласно классификации ООН. Однако такой статус не означает, что курды пользовались и пользуются в Сирии политическими правами, которые даёт статус коренного народа.
Безусловно, курдское население в Сирии, в силу исторических и географических причин, неоднородно. Миграция курдов продолжалась и в период Османской империи. Часть курдов – это потомки племён, выселенных из Анатолии. В XIX–начале XX вв. эта группа курдов проживала на севере от Ракки и была объединена в союз племён (сложное вождество) Милли. В XVII столетии из современных районов турецкого Курдистана в окрестности Джераблуса переселилась другая крупная группа курдов, которая создала племенную конфедерацию Барази. Кроме того, со времён султана Салах-ад-Дина (1174-1193), который сам был курдом по происхождению, и вплоть до начала XX столетия курдские гарнизоны размещались в Дамаске и обеспечивали безопасность торговых путей, а также безопасность совершающих хадж. В эти гарнизоны набирались уроженцы различных курдских племен, которые сейчас оказались на территории Турции, Ирана, Ирака и даже Ливана. В Курдских горах на севере Сирии проживали и проживают пять крупных племён, а также общины религиозной группы курдов-езидов. По мере роста темпов урбанизации всё больше курдов переселялось в крупные города (Алеппо, Хама) – вдали от территорий традиционного проживания. Тем не менее, большинство курдов относительно однородно в религиозном и языковом плане.
Французская колониальная администрация не поддерживала идею автономии курдов на подмандатной территории, стремясь сохранить хорошие отношения с Турцией и не желая раздражать арабские политические круги в Дамаске. Кроме того, курды рассматривались как элемент игры противников Франции – будь то Великобритания, а позднее Германия и СССР. В 1927 г. французские власти попытались начать сближение с курдами и стали реализовывать так называемый “план Терье” (хотя и в урезанном виде): курдским беженцам из Турции были даны документы, был разрешён выпуск курдской прессы, был создан курдский батальон колониальной армии Леванта. Стремясь добиться большего, курдские политические круги сформировали коалицию с армянскими и христианскими организациями, выступали с требованием автономии для провинции Джазира (северо-восток Сирии). “Курдско-христианский блок” активно добивался гарантий прав этнических и религиозных меньшинств со стороны Лиги Наций, а также назначения отдельного губернатора в планируемую автономию. В ответ на это французская колониальная администрация после формального признания независимости Сирии (1936 г.) стала склоняться к тактике «разделяй и властвуй», то есть обостряла противоречия по линиям “центр-периферия” и “арабское большинство- курдское меньшинство”.
Необходимо отметить, что в организационном плане курдское меньшинство достаточно долго сохраняло традиционные институты самоорганизации, прежде всего, племенные. Поэтому первые политические (в современном смысле этого слова) организации курдов Сирии были созданы при внешней поддержке. Лига “Хойбун”, возникшая в 1927 г., была первой структурой, которая стала бороться за политические и культурные права курдского меньшинства. Эта организация была создана курдами-интеллектуалами, которые были вынуждены покинуть Стамбул. Старейшая политическая партия сирийских курдов – Курдская демократическая партия Сирии (1957 г.) – сформировалась при значительной поддержке иракских курдов и первоначально ориентировалась на Д. Талабани.
Но и на современном этапе племенные, клановые и исторические особенности дают о себе знать в партийном строительстве: КДПС пережила несколько расколов, на сегодняшний день 12 из 17 партий курдов в Сирии – это осколки КДПС. Примечательно, что часть этих расколов была вызвана разногласиями среди внешних (прежде всего, иракских) курдских политических сил.
После окончательного обретения независимости в Сирии в 1946 г. боролись две основные идеологии – панарабизм и сирийский арабский национализм. Разница между ними заключалась в отношении к имевшимся границам страны: очевидно, что сторонники панарабизма выступали за более масштабный государственный проект. Правда, для курдского меньшинства различий в идеологиях не было: курды признавались либо арабами, либо чуждым элементом. В частности, 1962 г. сирийское правительство провело перепись населения на северо-западе страны, по итогам которой было принято решение о лишении гражданства 120 тыс. курдов. Ещё одной дискриминируемой группой курдов стали так называемые “скрытые” граждане – в основном, жители сельской местности, которые проигнорировали перепись. Этот дискриминационный статус распространяется и на детей этих курдов, родившихся в Сирии, несмотря на декларируемое Конституцией Сирии «право земли» в вопросах приобретения гражданства. На 2008 г. в Сирии числилось не менее 280 тыс. курдов – неграждан и “скрытых” граждан.
Партия “Баас”, пришедшая к власти в 1963 г., стремилась балансировать между этими идеологиями панарабизма и сирийского национализма, но всё более склонялась к последнему. Как и соседние страны, у которых также существует “курдский вопрос”, Сирия пошла по пути ограничений и политики ассимиляции: начались переселения арабского населения в пограничные курдские районы, арестовывались курдские политические деятели, был введён запрет на образование на курдском языке, ограничивалось право на проведение празднеств и собраний. В 2000-е было введено ещё одно любопытное ограничение: было запрещено регистрировать детей с курдскими именами.
Таким образом, тенденция к самоорганизации курдов в Сирии сформировалась давно и постепенно набирает обороты. Несмотря на сильное ассимиляционное давление официальных властей, курдские политические силы поддерживают контакты с внешними силами и ищут пути изменения статуса курдского меньшинства в стране.
К началу “арабской весны” курдское национальное движение находилось в состоянии постепенной консолидации. Ряд политических сил отстаивали левые взгляды (“Левая партия”, “Партия Свободы”, “Объединённая партия”, “Объединённая демократическая партия”, “Демократический Союз”), другие – правые идеологии (“Патриотическая партия”, “Прогрессивная партия”, “Партия Равенства”). Примечательно, что программы этих партий были очень близкими и строились на весьма умеренных запросах. Ни одна из данных политических сил не требовала создания независимого Курдистана, целью большинства этих партий (кроме партии “Движение будущего”) было лишь создание политической автономии. Причём речь шла именно об участии в локальном управлении курдскими территориями: пропорционального представительства в общесирийских органах власти требовали только “Левая партия” и “Движение будущего”. Кроме того, практически все курдские партии декларировали мирный способ достижения своих целей, отрицали необходимость вооруженной борьбы за права своего народа. Также курдские партии не приветствовали исламистские лозунги и, по крайне мере, на уровне публичных заявлений отстаивали демократические права и свободы – свободу собраний и ассоциаций, честные выборы, гендерное равенство.
Попытки объединить разнородные курдские партии предпринимались несколько раз. В 1994 г. был создан Курдский демократический альянс (КДА) в составе четырёх партий, который был настроен на конструктивный диалог с сирийским режимом. В 2000 г. другие четыре партии сформировали Курдский демократический патриотический Фронт (КДПФ), к которому периодически присоединялась “Левая партия”, входившая в КДА. В 2006 г. наиболее радикальные политические силы (“Партия Свободы”, “Объединённая партия” и “Движение будущего”) создали Координационный комитет, который поддерживал проведение демонстраций и локальных протестов для восстановления прав курдов в Сирии. В 2009 г. был создан Политический совет семи партий, который функционально заменил КДПФ и Координационный комитет. В стороне от объединительных процессов фактически оставались только “Движение будущего” и партия “Демократический союз”. Причина такой позиции обусловлена внешними факторами: “Демократический союз”, в отличие от большинства курдских партий в Сирии, ориентируется не на Иракский Курдистан, а на “Рабочую партию Курдистана” и курдские круги в Турции.
Протесты против режима Б. Асада в Сирии заставили курдские партии выбирать союзников. Часть партий была настроена на диалог с официальным правительством, другая – на полную поддержку протестов. В апреле 2011 г. все курдские партии сформировали Национальное движение, чтобы “говорить одним голосом” от имени курдского меньшинства в стране. Поиск компромисса между политическими силами оказался тяжёлым: в обнародованной программе Национального движения выдвигалась цель борьбы с однопартийностью политический системы Сирии, но не с действующим президентом Б. Асадом. Аналогично, разногласия по поводу культурной и политической автономии привели к тезису о равноправии граждан, который не могло удовлетворить большинство партий (вместо групповых прав речь шла только об индивидуальных). Тем не менее, сначала курдские политические силы склонялись к тому, чтобы поддержать оппозицию. По образу и подобию оппозиционного Сирийского национального Совета был создан Курдский национальный Совет (КНС), некоторые представители которого участвовали в формировании оппозиционных структур. В то же время, курдские партии столкнулись с тем, что их секуляризм и умеренный национализм резко диссонировал с панарабистскими и исламистскими настроениями противников режима Б. Асада. Более того, в процессе формирования оппозиционных структур активно участвовала Турция, которая создавала препятствия для полноценного участия курдских представителей в работе политических структур оппозиции. В итоге, курдские партии разделились на три группы:
- в КНС возобладали политики, которые ориентировались на Иракский Курдистан и требовали поиска тяжёлых, но необходимых компромиссов между курдскими партиями;
- ряд членов КНС и «Движение будущего» стали частью Сирийского национального Совета и заняли резкую позицию в отношении режима Б. Асада;
- партия «Демократический союз» покинула КНС и вернулась к лоялистской риторике по отношению к правительству Сирии (хотя и требовала роспуска спецслужб и демократизации политического устройства в стране).
Нельзя не отметить, что под влиянием лидера Иракского Курдистана М. Барзани КНС неоднократно вступал в контакт с представителями США и пытался с их помощью наладить отношения с сирийской оппозицией. Требования умеренных курдских партий состояли в следующем: сирийская оппозиция должна была признать курдов национальным меньшинством (не арабами и не сирийцами) и обещать отменить все дискриминационные меры в их отношении, а также начать дискуссию о формах будущей политической автономии в составе единой Сирии. Не менее острым был вопрос о квоте курдов в Сирийском национальном совете и о персональном распределении мест, что в итоге привело к разрыву отношений большинства курдских партий и сирийской оппозиции. Также М. Барзани летом 2012 г. попытался примирить “Демократический союз” и КНС: по Эрбильскому соглашению, 12 июля для управления курдскими территориями был создан Верховный совет, который формально просуществовал до 2015 г., но фактически развалился в ноябре 2013.
Продолжающаяся гражданская война в Сирии и угроза “Исламского государства” (организация, запрещенная на территории РФ) объективно способствовали усилению политических сил, которые сумели найти общий язык сразу с несколькими внешними игроками и сторонам конфликта. Прежде всего, в выигрыше оказалась партия “Демократический союз” (ДС), которая действовала на основе прагматичных, а не идеологических принципов. Во-первых, ДС не стала полностью разрывать отношения с официальным правительством Сирии и использовала старые связи Дамаска и “Рабочей партии Курдистана” в своих целях. Это позволило открыть школы, больницы на территориях, контролируемых ДС, то есть партия стала де-факто управлять на локальном уровне. Более того, правительство Сирии отвело войска из северной части мухафазы (провинции) Алеппо, что позволило создать самоуправляющуюся территорию курдов со столицей в Африне. Опираясь на этот успех, в 2014-2015 гг. отряды боевого крыла ДС потеснили “Исламское государство” на севере Сирии и создали кантон Кобани на севере трёх мухафаз – Ракка, Алеппо, Эль-Хасеке. Это позволило расширить массовость партии и укрепить низовые организации. Сформировался замкнутый круг, играющий на пользу ДС: решая местные проблемы, партия получает поддержку населения и увеличивается в численности, что позволяет решать более масштабные проблемы и наращивать популярность.
Во-вторых, неучастие “Демократического союза” в КНС упростило процесс принятия решений. Вместо согласования действий с 15-ю партиями и их внешними партнерами (Иракским Курдистаном, Турцией, различными группами сирийской оппозиции), “Демократический союз” действует самостоятельно. Более того, неудавшиеся контакты КНС с оппозиционным СНС активно используются в пропагандистских целях: другие партии характеризуются как неуспешные защитники прав курдов, как сторонники компромисса с исламистами и панарабистами.
Всё же преимущества партии “Демократический союз” носят тактический характер, стратегически необходимо искать точки соприкосновения с остальными курдскими партиями и руководством Иракского Курдистана. Это нужно по следующим причинам. Во-первых, в августе 2016 г. Турция начала на севере Сирии операцию “Щит Евфрата”, которая имела целью восстановить роль Анкары в возможных конфигурациях межсирийского урегулирования и, одновременно, подразумевала сокращение территории под контролем сирийских курдов. То есть, партия “Демократический союз” нуждается в поддержке внешних сил для сдерживания Турции, а это означает, в том числе, использование тесных контактов руководства Иракского Курдистана и США. Во-вторых, “Демократический союз” нуждается в больших материальных средствах для восстановления разрушенных войной территорий. Борьба с ИГ в кантоне Кобани (в том числе бомбардировка позиций исламистов американской авиацией) привела к разрушению инфраструктуры и целых населенных пунктов. Именно на ДС ложится ответственность за социальные проблемы в условиях разрухи и скопления населения в крупных городах.
Пример возможности таких компромиссов различных политических сил в сирийском Курдистане – это управление курдским кантоном Джазира (большая часть сирийской мухафазы Аль-Хасеке). Органы управления территорией по квотному принципу поделены между ДС и некоторыми партиями из числа участников Курдского национального совета, но вооружённым формирования других партий не разрешено находиться в самом кантоне. В законодательные (законосовещательные) органы кантона вошли также представители арабского, армянского и ассирийского народов. При этом в крупных городах расположены также подразделения официального сирийского правительства, они же осуществляют пограничный контроль. Более того, зарплату госслужащим (в том числе учителям и врачам) продолжает выплачивать Дамаск. То есть “Демократическому союзу” удалось управлять полиэтнической территорией, где большинство локальных общин поддерживает связи с внешними игроками. В то же время, качество управления в условиях продолжающейся гражданской войны в Сирии не может быть полностью эффективным.
В целом, самоопределение курдов в Сирии происходит на основе политических партий, которые выражают запрос на изменение политического и культурного статуса курдского населения. В период гражданской войны курдские политические партии сумели стать “третьей силой”, которая балансирует между режимом Б. Асада и оппозиционными структурами. Главный вопрос – сумеет ли курдское меньшинство перевести свой нынешний политический капитал в конкретный статус в новой послевоенной Сирии?
Основные внешние игроки сирийского кризиса склоняются к тому, чтобы в той или иной форме восстановить Сирию в её нынешних границах. Хотя курдские кантоны под руководством “Демократического союза” в марте 2016 г. провозгласили себя федеративной частью Сирии и даже приняли собственную конституцию в декабре того же года, форма территориального устройства страны ещё не определена. Один из наиболее обсуждаемых сценариев подразумевает образование конфедерации и слабого центрального правительства, которое рано или поздно сменит правительство Б. Асада. Этот сценарий позволит отчасти удовлетворить запросы сирийской оппозиции и Запада, которые добиваются смены политического режима в стране. Конфедеративное устройство – это не столько желаемый результат, сколько констатация реальности: за шесть лет гражданской войны многие территории стали де-факто самостоятельны, обладают собственными воинскими подразделениями. В этом сценарии нет места сильному Курдистану на севере Сирии: курдские зоны будут искусственно разъединены и связаны различными обязательствами, которые должны успокоить Турцию. Это может подразумевать определённые формы турецкого военного присутствия на севере потенциальной конфедерации.
Не менее неприятный для Курдистана сценарий – это восстановление режима Б. Асада и его условная либерализация. Вполне вероятно, что ситуативный союз партии ДС и Дамаска закончится, как только придётся делить контроль над богатыми нефтью территориями кантона Джазира. А без этого кантона у сирийских курдов не будет прямого выхода к поставкам вооружений и гуманитарной помощи из-за рубежа, поскольку на севере от кантонов Африн и Кобани находится враждебная Турция. Поэтому сохранение режима Б. Асада для курдов предпочтительно только при условии, что сам режим будет контролировать лишь центр и юг страны, или же при существенном росте значения институтов представительской демократии (что менее вероятно).
Выйти на усреднённый вариант можно только нас основе широкой коалиции курдских политических сил в Сирии, которая не позволит использовать внутрикурдские разногласия и обеспечит широкую международную поддержку для объединённой курдской автономии. Вероятно, для этого необходимо пересмотреть условия сотрудничества различных курдских партий, а также поощрять контакты сирийских курдов с США, Россией и ведущими странами ЕС, вклад которых в урегулирование был и останется значительным.
Икбаль Дюрре – кандидат исторических наук (Турция)