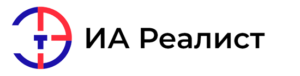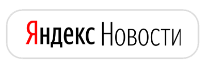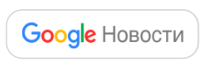Во время правления династии Каджаров в Иране не существовало сильной службы разведки и органов безопасности. Реза-шах Пехлеви также не принял меры для создания силовых ведомств. Возможно, к этому была причастна Великобритания. Лондон в то время мог намеренно препятствовать созданию шахом спецслужб и даже саботировать его усилия в этом направлении.
Во времена правления Реза-шаха Пехлеви с 1925 по 1941 год Иран был лишен эффективного разведывательного органа. Такое положение продолжалось до того момента, пока влияние американцев в Иране не стало сильнее британского.
В 1941 году в ходе Второй мировой войны Реза-шах Пехлеви попытался отказать Великобритании и СССР в размещении их войск на территории Ирана. После чего 25 августа 1941 г. советские и английские ввели войска на иранскую землю. [33] Было объявлено, что на время Второй мировой войны они берут территорию под свой контроль, а шаху было предложено отречься от престола. Отречение состоялось 16 сентября 1941 года. [26] Реза-шах умер в изгнании в Йоханнесбурге в июле 1944 года. [16] Новым шахом был объявлен его сын Мохаммед.
Создание САВАК
В 21 год Мохаммед Реза Пехлеви оказался в таких обстоятельствах, с которыми едва ли справился самый уверенный и опытный политик. Легитимность его династии ставилась под сомнение. Вопрос о роли монархии в Иране так и был не решен. Шаху пришлось бороться с постоянным вмешательством иностранных держав, прямой угрозой территориальной целостности страны со стороны СССР и слишком явным британским экономическим присутствием. Он был вынужден бороться, чтобы утвердить свою власть в политической системе, расколотой всевозможными противоречиями: классовыми, религиозными, региональными, борьбой нового и старого.
На одной стороне были исламские фундаменталисты, возглавляемые неистовым аятоллой Сейидом Кашани, которые приходили в ярость от наступления на них современного мира. Они выступали против присутствия иностранных советников и разрешения женщинам не носить паранджу. На другой стороне были коммунисты и “Туде” – хорошо организованная партия левого толка со связями в Москве. Между этими двумя силами находились реформаторы, националисты и республиканцы. Все они хотели изменить политическую систему. Военные тоже намеревались прийти к власти. [8]
В таких условиях страна без эффективной спецслужбы не смогла бы функционировать в качестве опоры американской дипломатии в стратегическом регионе Персидского залива. Следовательно, американцы приняли решение действовать незамедлительно. Поскольку Иран граничил с главным конкурентом США – Советским Союзом – проамериканский режим должен был служить интересам Белого дома и действовать активно против возможной советской угрозы.
В период оккупации Ирана Советский Союз создал разветвленную шпионскую сеть, которая проникла глубоко в высшие эшелоны иранской армии. Реагируя на это, шах обратился за помощью к своим американским друзьям в создании организации разведки, которая помогла бы защититься от технологически мощных организаций – КГБ и ГРУ.
После августовского переворота 1953 года и установления доминирующего положения США в Иране, Вашингтон начал проводить стратегическую политику по превращению Иран в свою основную военно-политическую базу в регионе. Для этого американцы помогли иранцам создать разветвленную контрразведывательную сеть в армии, а затем предложили шаху создать Министерство государственной безопасности Ирана (САВАК) – организация разведки и национальной безопасности. [27 и 35]
Идея создать службу разведки возникала примерно в 1954 г., спустя год после свержения правительства Мосаддыка. Согласно первоначальной концепции, САВАК должен был собирать информацию и подготавливать доклады о принятии политических решений. В сентябре 1953 года Вашингтон направил в Иран полковника армии, работавшего на ЦРУ, для работы с генералом Теймур Бахтияром, который был назначен военным губернатором Тегерана в декабре 1953 года и сразу же начавший собирать ядро новой разведывательной организации. Полковник армии США работал в тесном контакте с Бахтияром и его подчиненными. Он проводил курсы для сотрудников будующего ведомства по профессиональной подготовке: основы разведывательных методов, такие как наблюдение и методы ведения допроса, использование разведывательных сетей и обеспечение безопасности. Главным достижением на начальном этапе формирования САВАК было обнаружение и разгром в сентябре 1954 года большой группы коммунистической сети партии “Туде”, которая была создана в вооруженных силах страны. [19 и 31]
В формировании секретных полицейских структур Ирана активное участие принимали специалисты из израильского Моссада. [21] Офицеры САВАК проходили спецподготовку в Великобритании, Израиле и США. [7] Довольно быстро новая спецслужба превратилась в эффективное и мощное ведомство внутренней и внешней безопасности. Первостепенная цель организации состояла в том, чтобы устранять угрозы режиму шаха внутри страны и за ее пределами. Факты о причастности ЦРУ в построении структуры САВАК стали достоянием гласности лишь со второй половины 1970-х гг. [22 и 34]
Рассматривая армию как главную политико-силовую опору режима, шах Мохаммед Реза Пехлеви в постмосаддыковский период стал придавать большое значение реорганизации полиции и спецслужб. С их помощью в стране начались жесткие репрессии по отношению к оппозиционным группам и организациям. [4]
Августовский переворот 1953 г. положил начало новому этапу в современной истории Ирана. В управлении страной заметную роль стала играть бюрократия и верхушка армии, оказавшая большую помощь двору в осуществлении переворота. [5]
Законопроект о создании САВАК был внесен на рассмотрение в Меджлис 20 января 1957 года, на заседании которого Сенат ее одобрил. [14] Официально спецслужба основана 20 марта 1957 года особым законом шаха, как организация, которая должна была собирать сведения о политической оппозиции монархическому режиму династии Пехлеви, а также пресекать любые антигосударственные действия. Окончательно “закон об учреждении САВАК” утвержден Меджлисом 19-го созыва специальным декретом 18 октября 1957 года. Документ наделил тайную полицию широкими полномочиями. [35] Против законопроекта о создании спецслужбы решительно выступал сенатор Ибрагим Хадженури. [13]
Главными целями организации объявлялись: сбор необходимой информации для защиты национальной безопасности; предотвращение деятельности групп, идеология которых противоречит принципам конституции; предотвращение заговоров, направленных против безопасности и т.п. Естественно, под понятием “национальная безопасность” в тексте закона подразумевалась безопасность верховной власти шаха и безопасность существовавшей политической системы. [4]
Помимо закона о создании САВАК не существовало специальных юридических норм и предписании, а также законодательных актов, если не ограничивавших, то хотя бы устанавливавших некоторый правительственный контроль за деятельностью ведомства. Хотя официальный закон Меджлиса о формировании Министерства государственной безопасности от 1957 года четко определял круг его полномочии и обязанностей, законодательно разграничив сферу его юрисдикции. Фактически САВАК представлял из себя автономную секретную службу внутренней и внешней безопасности, не подчинявшийся ни одному гражданскому и военному министерству Ирана. Полномочия спецслужбы выходили далеко за рамки существовавших нормативных предписаний.
Идеология “позитивного национализма” во внешней политике Ирана
Правящие круги Ирана в этот период проявляли большую склонность к тесному сотрудничеству с государствами Запада, исходя из внутриполитического положения. После переворота 1953 г. произошли значительные перемены в политической жизни страны. Иранский парламент, который с осени 1941 г. стал играть значительную роль не только в формировании правительства, но и в определении его политической линии, вскоре после переворота полностью утратил свою былую самостоятельность, превратившись в послушное орудие шахского двора.
Расширились прерогативы шаха, который стал играть решающую роль в определении курса внешней и внутренней политики. Он стал лично определять политическую линию, осуществляемую Советом министров. Без консультации с парламентом шах по своему усмотрению назначал премьер-министра и руководителей важнейших министерств и госучреждений. В 1957 году монарху было предоставлено право отлагательного вето. По этому закону, он мог передать принятые парламентом законопроекты, в том числе и по финансовым вопросам, на повторное рассмотрение.
После вступления Ирана в Багдадский пакт в 1955 г. еще более рельефным стал новый прозападный курс, который несколько позже руководители иранской политики назвали “позитивным национализмом”. Идеологи “позитивного национализма” и прежде всего сам глава иранского государства, противопоставляли свой новый курс “негативному равновесию” доктора Мосаддыка. Он и его единомышленники считали, что Иран имеет возможность плодотворно развиваться лишь в политически разряженной международной обстановке. По их мнению, следовало соблюдать нейтралитет в противоборстве между Западом и Востоком. Однако иранский лидер, оправдывая внешнеполитический курс после переворота 1953 г., отвергал идею о “негативном равновесии” как несостоятельную. Он писал, что сторонники Мосаддыка, резко выступая против английского влияния, на деле открыли путь к проникновению в страну коммунизма. [5]
Некоторые политологи отмечают, что репрессии САВАК в 1960-1970-х гг. были преднамеренными действиями шаха в борьбе с программой СССР по дестабилизации внутриполитической ситуации в Иране, как одного из главных союзников США, и с такими левацкими террористическими группами как “Федаин-э Ислами” и “Моджахедин-э Хальк”. [23] Стоит отметить, что по сравнению с большинством своих соседей, шахский режим Ирана был более мягким, чем социалистические военные диктатуры или консервативные религиозные монархии региона. [23]
Руководители Министерства государственной безопасности Ирана и борьба с Хомейни
САВАК состоял из девяти департаментов, основными из них были второй (внешняя разведка), третий (внутренняя безопасность) и восьмой (контрразведка). [20]
Первым директором САВАК был генерал Теймур Бахтияр, близкий родственник второй жены шаха Сорайя Исфандияри-Бахтиари. Под его руководством разгромлены ячейки партии “Туде” в армии и госаппарате. Однако с приходом в Белый дом администрации Джона Кеннеди шах начал с подозрением относиться к Бахтияру, который провел несколько несанкционированных встреч с представителями Госдепа. В этих действиях монарх усмотрел попытку заговора со стороны генерала. В июне 1961 года его отправили в отставку, а вскоре выдворили из страны. В эмиграции (Ливан, Ирак) Бахтияр начал устанавливать контакты с антишахскими группировками и диссидентами. Шах приказал САВАК ликвидировать “предателя”, что и было сделано – в августе 1970 года, бывший шеф САВАК был ликвидирован агентами некогда возглавляемого им службой.
Вторым директором САВАК стал генерал Хассан Пакраван. Он запретил своим сотрудникам использовать пытки при допросах подозреваемых. [11] Однако либеральные реформы нового главы ведомства вызвали отрицательный эффект для властей. Активизировались антишахские группы студенчества и шиитские священнослужители.
В 1962 году мулла Хомейни возглавил забастовку духовенства, вынудившую правительство Асадоллы Алама отказаться от законопроекта о региональных и местных обществах. В январе 1963 года он призвал бойкотировать шахский референдум по вопросам проведения реформ, так называемую “Белую революцию”. Хомейни утверждал, что всенародный опрос не соответствует исламским нормам и Конституции страны.
В середине марта 1963 года, накануне иранского Нового года, Хомейни призвал иранцев отказаться от любых празднований и выйти на улицу с политическими лозунгами. Шах приказал разогнать демонстрантов. 22 марта агенты САВАКа совершили вооруженный налет на медресе Февзийе в Куме, руководителем которого был Хомейни. В результате один учащийся погиб. [36]
3 июня 1963 года, выступая в медресе Февзийе, Хомейни резко осудил политику шаха и призвал его изменить свой курс. В ответ на это 5 июня 1963 года шахская полиция арестовала аятоллу и перевела его в Тегеран под домашний арест. Действия шаха привели к массовым протестам. В ходе жестокого подавления демонстраций погибло около 400 протестовавших. Только в августе будущи лидер Исламской революции был выпущен из-под ареста. [30] В октябре 1964 года Хомейни вновь арестовали и выслали в Турцию за то, что осудил закон об особом статусе американских граждан в Иране (так называемый “акт о капитуляции”). Из Турции Хомейни перебрался сперва в священный шиитский город Наджаф в Ираке, а в 1978 году – в Париж. Там он продолжил борьбу против шахского режима. Генерала Пакравана сняли с должности в 1965 году. [17]
Новым руководителем САВАК стал генерал Нематолла Нассири. При нем министерство госбезопасности было существенно реорганизовано. Оно стало более активным перед лицом повышающейся исламистской и коммунистической воинственности и политического волнения.
В 1960-1970-е гг. жизнь иранского общества прошла под знаком “Белой революции”. По замыслу Мохаммеда Реза Пехлеви, реформы должны были заложить основы для перехода Ирана в число развитых капиталистических стран. [9] При жизни одного поколения монарх мечтал совершить “прыжок через столетия”, перевести Иран “из средневековья в ядерный век”, превратить страну в “пятую индустриальную державу мира”. [2]
Результаты крупномасштабных социально-экономических и политико-административных реформ, проведенных в течение полутора десятилетий за счет возросших доходов от нефти, поражали воображение не только многих западных наблюдателей, но и самого монарха. Нефть позволила Ирану продемонстрировать почти невиданные ранее темпы экономического роста. [2] В отсталой аграрной стране появились новые отрасли современной промышленности: металлургические и машиностроительные заводы, нефтехимические комплексы, автомобильные и тракторостроительные предприятия, газовая промышленность, заложены основы национального судо- и самолетостроения и даже сделаны шаги к созданию атомной энергетики. В стране стали утверждаться эталоны современного “общества потребления”. Экономический рост сопровождался относительной социальной и политической стабильностью.
Мохаммед Реза Пехлеви смог в какой-то мере временно превратить Иран в “витрину модернизации” по западному образцу и отвлечь интеллигенцию и буржуазию от активной борьбы с режимом. Но этим же он лишил народ светской идеологии. Широкие слои “базара” (торговцев и ремесленников всех калибров) оказались под безраздельным влиянием шиитского духовенства. В ситуации резко возросшей в середине 1970-х гг. социальной напряженности и политической смуты шахский режим, ухитрившийся к тому времени поссориться с духовенством (из-за ограничения вакфов, контроля над судами и образованием, “вестернизации” быта и т.п.), не имея ни надежных союзников, ни собственной политической партии, был лишен идеологических рычагов воздействия на общество. Несмотря на “поддержку” зарубежных стран, режим пал. Это произвело впечатление разорвавшейся бомбы и породило “исламский бум” 1970-80-х годов. [10]
В 1976-1977 гг. репрессии САВАК были значительно смягчены благодаря гласности и контролю со стороны “многочисленных международных организаций и иностранных газет”. [12]
В июне 1977 г. около 100 представителей творческой интеллигенции опубликовали воззвание с призывом к правительству разрешить им создание союза писателей, запрещенного в 1969 г. В июле 64 известных юриста выступили с требованием восстановления автономности судопроизводства. В октябре в Тегеране были организованы “поэтические чтения”, приобретшие характер политической демонстрации против властей… Все эти выступления были вполне легальными, но носили антиправительственный характер. [3] Обращает на себя внимание явное несоответствие между зверствами САВАК и степенью “открытого недовольства демократических кругов”, вылившегося в проведение нескольких вполне легальных мероприятий…
Вслед за этим проявлением недовольства начались массовые выступления: 15 и 16 ноября 1977 г. случились волнения в политехническом университете “Арьямехр” и Тегеранском университете. В течение трех-четырех дней они были подавлены полицией. 8-9 января в г. Кум прошли антиправительственные демонстрации учащихся религиозных училищ, духовных лиц и представителей средних городских слоев. Демонстранты не только провозглашали антиправительственные лозунги, но и выдвигали требования о ликвидации шахского режима и восстановлении конституционных норм. Акция протеста закончилась кровопролитием. Не менее 60 ее участников были убиты, сотни ранены. [3]
Датой начала революции в Иране принято считать 8 января 1978 года, когда первая крупная антиправительственная демонстрация в Куме была подавлена шахскими войсками.
В рамках политики либерализации шах в июне 1978 года уволил с поста директора САВАК своего верного друга детства Нематоллу Нассири. [32] На его место был назначен генерал Нассер Могадам, бывший директор 3-го департамента САВАК, имевший “хорошие отношения” с шиитскими священнослужителями.
Близкий соратник аятоллы Хомейни Ибрагим Язди говорил, что генерал Нассер Могадам 30 октября 1978 г. заявил главе отдела ЦРУ в Иране: “Забота шаха в эти дни состоит в осуществлении своей политики либерализации открытого общества и уважения к принципам Конституции. Он не позволит полиции, армии и силам безопасности надлежащим образом выполнять свои обязанности. Эта политика вызывает ослабление морального духа и решимости вооруженных сил, полиции, жандармерии и САВАК. Это может в конечном итоге повлиять также на безопасность иностранных граждан в Иране”. [1]
В течение всего 1978 года в различных городах Ирана представители исламского духовенства организовывали демонстрации, решительно разгонявшиеся шахской гвардией и силами САВАК. К концу года революционеры перешли к тактике экономических стачек и забастовок. Это полностью парализовало экономику.
В начале января 1979 г. шах назначил представителя умеренных оппозиционеров Шапура Бахтияра новым премьер-министром. Новый глава правительства пообещал отменить законы военного времени, ввести свободу печати и партийной деятельности, освободить политических заключенных, упразднить САВАК, прекратить продажу нефти Израилю и ЮАР, выйти из блока СЕНТО, отказаться от выполнения Ираном роли “жандарма” Персидского залива, аннулировать большинство контрактов ща закупки оружия.
Программа Бахтияра предусматривала также “проведение судебных процессов над расхитителями государственных средств, людями, виновными в нарушении прав населения, и агентами САВАК, допускавшими “противозаконные действия”, в специальных судах, которые будут созданы по новому законодательству; выплату “разумной компенсации” политзаключенным, а в случае их гибели – родственникам; присвоение официального титула “мучеников” лицам, погибшим в последних событиях, и выплату компенсации их родственникам. [1] В это же время было заявлено, что шах и его жена покинут Иран на неопределенное время.
Командующий парашютно-десантными войсками генерал Манучер Хосродад, фактический лидер группировки генералов-ультрароялистов, по этому поводу заявил: “В настоящее время Его Величество не намерен покинуть страну даже для отдыха, поскольку, если он уедет, власть в стране захватят коммунисты. Армия никогда с этим не согласится, а также не признает режим во главе с Бахтияром”. Он добавил, что “если Бахтияр будет настаивать на отъезде шаха, армия попросту возьмет власть в свои руки”.
Шах отреагировал молниеносно. Он снял генерала Хосродада с поста и отправил в отдаленный гарнизон. Ранее он отправил в отставку военного губернатора Тегерана генерала Овейсси, который запомнился общественности непримиримой позицией по отношению к революционерам. Генерал Овейсси категорически возражал против какого-либо отказа шаха от власти.
Беспочвенными были расчеты духовенства перетянуть на свою сторону рядовой состав армии и тем самым нейтрализовать генералитет. Печать преувеличивала размах волнений среди военных, стремясь создать впечатление далеко зашедшего разложения армии. На самом деле волнения происходили только среди служащих ВВС, точнее, среди хомафаров. В сухопутных войсках, насчитывавших 285 тыс. человек, волнений не было. Спокойствие царило и среди личного состава ВМФ. Две бригады шахской гвардии “бессмертные” с двумя бронетанковыми батальонами общей численностью 12 тыс. человек и жандармский корпус, насчитывавший 74 тыс. человек, активно участвовали в подавлении антишахских выступлений.
САВАК: за или против Исламской революции
В решающие дни для монархического режима с 9 по 12 февраля 1979 г. Министерство государственной безопасности заняло неопределенную позицию. Это вызвано тем, что ее глава генерал Могадам тайно примкнул к революции наряду с начальником шахской инспекции и Специального бюро сведении генералом Хоссейном Фардустом и начальником Генштаба генералом Аббасом Карабаги. 16 января 1979 г. шах покинул Иран. Отсутствие главнокомандующего сильно деморализовало высший военный истеблишмент.
С этого момента Могаддам окончательно удостоверился в неизменности позиции шаха “несилового разрешения внутриполитического кризиса”. Он сделал соответствующие выводы. Генерал попытался достигнуть компромисса с оппозицией за счет “нейтрализации” карательного аппарата внутри САВАК. Пользуясь всеми прерогативами главы спецслужбы в решающий момент противоборства прошахских сил с революционерами с 9 по 12 февраля 1979 года он тайно перешел на сторону революции, не проинформировав своих подчиненных о “капитуляции”. На это указывает следующее обстоятельство. Четырехчасовой штурм революционерами центральной штаб-квартиры САВАК в районе шахского дворца Султанабад свидетельствует, что сотрудники тайной полиции находились на постах в ожидании “генерального решения” своего руководства о дальнейших действиях. Поскольку шах уже покинул Иран, то прямое руководство осуществлялось через аппарат Могадама. Раз такого решения не последовало, то сам факт оказания саваковцами ожесточенного сопротивления вызывает удивление.
К примеру, подразделения, охранявшие дворец Ниаваран и тюрьму Эвин, сдались без боя, т.к. руководители подразделений шахской гвардии, не имели соответствующих инструкций на случай подобной ситуации. Они вынуждены были сдаться на милость восставших. В случае с захватом штаб-квартиры САВАК такого не произошло. Революционерам пришлось брать этаж за этажом и комнату за комнатой. Возникает вопрос: “Если не было приказа Могадама защищать штаб-квартиру, то кем было принято решение оказания сопротивления революционерам?”.
Возможно, высшие чины ведомства были не согласны с “мирной позицией” генерала Нассера Могадама в отношении революции. “Радикалы” из САВАК не могли не понимать, что после краха монархической системы их участь была предрешена. Трудно ожидать милости от тех, кто многие годы находился под жесточайшим прессингом со стороны спецслужбы. Скорее всего, именно эти силы и стояли за отчаянной обороной штаб-квартиры.
Как США и страны Запада разочаровались в шахе Ирана
Для того, чтобы обосновать вышесказанное, необходимо развеять некоторые мифы. Они до сих пор бытуют в зарубежной и отечественной историографии. Есть все основания пересмотреть устоявшееся представление о том, что Запад и, в частности, США оставались естественными союзниками иранского шаха в период осуществления им реформ по модернизации экономики и превращению Ирана в передовую индустриальную державу. Отсюда вытекает и иное представление о роли США в антишахской революции.
Беспристрастный анализ ставших доступными после свержения шаха свидетельств и документов позволяет утверждать, что на определенном этапе развития шахских реформ, а именно с середины 1970-х годов, Запад начал отходить от поддержки преобразований монарха. В последующем “союзники” приступили к поиску альтернативы шахскому режиму.
Причина крылась в попытке иранского монарха выйти из-под контроля западных монополий и использовать возросшие нефтяные доходы для превращения страны в независимый субъект мировой политики. Свое видение будущего Ирана шах изложил в книге “К великой цивилизации”. Суть нового курса он разъяснил в интервью египетскому журналисту Мохаммеду Хейкалу в начале 1976 г. “Я хочу, чтобы уровень жизни в Иране через десять лет достиг уровня сегодняшней Европы. Через 20 лет мы будем впереди Америки”, – заявил Пехлеви. [28]
После этого у шаха начались трения в отношениях с его западными союзниками, прежде всего, с США. В последующем монарх, уже покинув страну и находясь в эмиграции, сам начал приходить к пониманию сути политики Запада в отношении Ирана. В своей последней книге “Мой ответ истории” он написал: “С какого-то времени я начал задумываться, а была ли когда-нибудь в политике Запада в отношении Ирана четкая направленность, за исключением успешных попыток по моему устранению? Западная поддержка моего правления всегда сопровождалась значительным контролем с его стороны. Правда, масштаб этого контроля варьировался в зависимости от изменений, происходивших в Иране и на международной арене, и в период правления Мосаддыка стремление Запада “подрезать мне крылья” отошло в сторону. Однако оно вновь проявило себя, когда я начал проводить самостоятельную политику… Теперь я уверен, что Запад организовывал против меня фронт каждый раз, когда моя политика расходилась с его интересами”. [29]
Однако из последней книги шаха так и не становится ясно, понимал ли он истинную причину охлаждения Запада к его реформаторской политике. Видимо, нет. Об этом можно судить по его высказыванию: “Я никогда не понимал нежелания Британии и Америки признать Иран полностью независимым государством… Частичный ответ, я думаю, состоит в отсутствии интереса Запада к иранской истории и в его несостоятельности понять разницу между собой и Ираном, как древним, так и современным”. [29]
Супруга шаха Фарах Пехлеви еще в дореволюционных мемуарах бесхитростно, но точно определила характер западно-иранских отношений и причины неприятия Западом амбициозных планов шаха по созданию общества “Великой цивилизации”. В своей книге “Мои тысяча и один день” она писала: “Сегодня Иран отказывается быть слугой у той или иной державы. Но Запад не сдаст так просто своих позиций, он шепчет нам: “Мы все еще самые сильные. Если вы попробуете вырваться, помните, что мы следим за вами и мы можем причинить вам много вреда”. И они могут, потому что у нас нет средств защитить себя от них. Ни наша пресса, ни наше телевидение не могут сравниться с их. Кроме того, есть возможность использовать против нас международный терроризм, который проявляет себя сегодня повсеместно”. [18]
Следует отметить, что две вышеупомянутые работы были опубликованы небольшими тиражами лишь в западных издательствах. Они никогда не выходили на персидском языке. В связи с этим отпадает версия, что подобными заявлениями монарх и его супруга пытались объясниться со своим народом. Их прозрение обращено к Западу и тем восточным странам, которые опрометчиво пытались подражать их прозападной политике. [6]
Правящим кругам Ирана становилось более понятно накануне и после победы антишахской революции то, что не хочет признавать почти никто из западных исследователей. Большинство из них настаивали и продолжают настаивать на том, что поддержка Западом шахского Ирана продолжалась вплоть до свержения иранского монарха, а западные страны во главе с США не имеют никакого отношения к краху шахского режима.
Что же касается последней книги иранского шаха, то ее просто замалчивали. Лишь в начале 1990-х годов на Западе появились редкие публикации, в которых поясвились попытки пересмотреть устоявшуюся трактовку иранских событий. Одной из таких публикаций стала книга известного американского востоковеда-ираниста М. Зониса “Величественный неудачник. Падение шаха”, опубликованная в 1991 году. В ней автор прямо ставит вопрос о желании США рассматривать Иран исключительно как зависимую страну с упором на право распоряжаться его природными ресурсами. [25]
В книге Зониса показано, как администрация Картера начала навязывать шаху свое видение прав человека, пытаясь обеспечить в этой стране режим наибольшего благоприятствования иранским либералам. Американцы считали, что в случае прихода к власти либералы будут также безоговорочно следовать политике Белого дома. Автор пишет, что в июне 1977 г. американского посла Ричарда Хелмса, находившегося в близких отношения с шахом и разделявшего его экономические и геополитические устремления, сменил В. Салливан. Дипломат сразу же собрал в своем посольстве экономическую элиту Ирана и попытался их отговорить от планов ускоренной модернизации иранской экономики. Впервые на страницах этой книги мы узнаем, что именно под давлением США шах расформировал правительство А. Ховейды, претворявшее в жизнь программу модернизации. Новый кабинет министров возглавил Д. Амузгар. Он взял курс на резкое ограничение инвестиций в развитие иранской промышленности и довел дело до дестабилизации финансовой системы страны. [25]
Однако ни Зонис, ни другие авторы не доходят до того уровня откровения, который характеризует страницы последней книги иранского монарха. Сверженный шах описывает предательскую позицию, занятую руководством западных стран в период Исламской революции. О последних месяцах своего общения с представителями Запада в Иране шах написал: “Американский посол В. Салливан, которого часто сопровождал посол Англии А. Парсонс, в последние месяцы революции посещал меня по несколько раз в неделю. Он всегда уверял меня в стопроцентной поддержке со стороны США, но каждый раз, когда я пытался уточнить, какова же позиция Соединенных Штатов в отношении иранских событий, всегда отвечал, что он не получает по этому поводу никаких инструкций… Теперь мне понятно, что своим молчанием американская администрация давала мне понять, чтобы я ушел”. [29]
Последний шахский премьер-министр Шапур Бахтиар всегда считался личным назначенцем самого монарха. “Бахтиара я назначил премьер-министром под давлением Запада, который рекомендовал мне его как видного представителя Национального Фронта. Я же знал его как известного англофила и агента “Бритиш Петролеум Компани“, не имевшего под собой какой-либо социальной базы. Назначение Бахтиара состоялось после моей встречи с лордом Дж. Брауном, бывшим министром иностранных дел в правительстве Лейбористов. Он рекомендовал Бахтиара и умолял меня покинуть страну для отдыха на пару месяцев”, – говорится в мемуарах иранского шаха. [29]
Далее Пехлеви пишет, как накануне его отъезда в январе 1979 года, не поставив его об этом в известность, в Иран прибыл заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Роберт Хайзер. В сопровождении посла Салливана военачальник посетил его лишь однажды и разговаривал только о сроках отъезда шаха из Ирана. Как утверждает шах, позже ему стало известно, что генерал “вел переговоры с вновь назначенным мной начальником генштаба генералом Карабаги, которого я считаю предателем и с будущим премьер-министром хомейнистского правительства М. Базарганом”. “Именно генерал Карабаги в последующем использовал свой авторитет, чтобы предотвратить какие-либо военные действия против Хомейни. Он один знает, почему принял такое решение, и сколько за это было заплачено. Примечательно, что, хотя все мои генералы были казнены, генерал Карабаги был помилован”, – написал шах. [29]
Нет оснований не доверять откровениям уходившего из жизни человека, тем более что он надеялся на реставрацию монархии в Иране и верил, что Запад поддержит в этом его наследника. Как известно, случилось иначе. Рухнули не только надежды шахского окружения на реставрацию монархии, но и планы США. Белый дом намеривался воспользоваться антишахской революцией и поставить у власти в Иране проамериканских представителей либеральной буржуазии. Они должны были восстановить вассальную зависимость Ирана от Соединенных Штатов. Новый исламский режим взял курс на полный суверенитет и независимость исламской республики, заявив о готовности сотрудничать с любыми государствами только на принципах равенства и взаимной выгоды.
Список литературы и источников
- Агаев С.Л. Иран в прошлом и настоящем (Пути и формы революционного процесса). – М., 1981.
- Агаев С.Л. Иран между прошлым и будущим. – М., 1987.
- Алиев С.М. Антимонархическая и антиимпериалистическая революция в Иране. – Народы Азии и Африки. 1979, № 3.
- Алиев С.М. История Ирана XX век. – М., 2004.
- Арабаджян А.З. Иран: очерки новейшей истории. Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1976.
- Белокреницкий В.Я. Мусульманские страны у границ СНГ (Афганистан, Пакистан, Иран и Турция – современное состояние, история и перспективы), 2002.
- Блоч Джонатан/Фитцджеральд Патрик. Тайные операции английской разведки: Ближний и Средний Восток, Африка и Европа после 1945 года. М.: Политиздат, 1987.
- Дэниел Ергин. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть.
- Иранская революция: причины и уроки. – М., 1989.
- Мухаметшин Ф.М. Взгляд на исламский фундаментализм. – M., 1998.
- Abbas Milani: Eminent Persians.Syracuse University Press, 2008.
- Abrahamian, Ervand, Tortured Confessions by Ervand Abrahamian, University of California Press, 1999.
- Ali Rahnema. Behind the 1953 Coup in Iran: Thugs, Turncoats, Soldiers, and Spooks, 2014.
- Amad Farughy/Jean-Loup Reverier: Persien: Aufbruch ins Chaos?, München 1979.
- Central Intelligence Agency (CIA) in Persia. In Encyclopaedia Iranica. Retrieved July 26, 2008.
- Cyrus Ghani. Iran and the Rise of the Reza Shah: From Qajar Collapse to Pahlavi Power, 2000
- Fakhreddin Azimi. The Quest for Democracy in Iran: A Century of Struggle against Authoritarian Rule, 2008.
- Farah Shahbanou of Iran. My Thousand and one day An Autobiography. London. 1978.
- Gholam Reza Afkhami: The life and times of the Shah. University of California Press, 2009.
- Harald Irnberger. SAVAK: Oder, Der Folterfreund des Westens.
- Kermit Roosevelt, Countercoup: the Struggle for the Control of Iran (McGraw-Hill paperback, 1981).
- Kingman Daily Miner – Nov 4, 1976.
- Ledeen, Michael, and William Lewis, Debacle: The American Failure in Iran, New York: Alfred A. Knopf, 1981.
- Manouchehr Ganji. Defying the Iranian Revolution: From a Minister to the Shah to a Leader of Resistance. (2000).
- Marvin Zonis. Majestic Failure. The Fall of the Shah. Chicago, 1991.
- Milani, Farzaneh. Veils and Words: The Emerging Voices of Iranian Women Writers, Syracuse, New York: Syracuse University Press.
- Modern Iran: Roots and Results of Revolution by Nikki R. Keddie, Yann Richard, Published by Yale University Press.
- Mohammed Heikal. Return of the Ayatollah: The Iranian Revolution from Mossadeq to Khomeini. London, 1981.
- Mohammad Reza Pahlavi. Answer to History. New York, 1980.
- Mohsen M. Milani. The Making of Iran’s Islamic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic. Westview Press, 1994.
- M.J. Gasiorowski, eds., Neither East Nor West. Iran, the United States, and the Soviet Union, New Haven, 1990.
- Nikazmerad, Nicholas M. A Chronological Survey of the Iranian Revolution. 1980.
- O’Hara, Vincent P. Tucker, Spencer, ed. World War II at Sea: An Encyclopedia. 1 (illustrated, reprint ed.).
- The Palm Beach Post – Nov 4, 1976.
- The U.S.-Soviet confrontation in Iran, 1945-1962: a case in the annals of the Cold War By Kristen Blake.
- Zaid. B. Ahmad. The Roots of Formation of Ayatollah Khomeini’s Political Thought, 2009.
Василий Папава – директор “Института изучения Ближнего Востока и Кавказа”, специально для ИА “Реалист”